


|
Вернуться
Комментарии Философская проза жизни 1. В норе
Никто мне не верит, но перипетии своего рождения я помню очень ясно. Попади в такую передрягу сегодня, наверное, справилась бы лучше. Тогда же чрезмерность чувств меня обездвижила, как это бывает иногда с жертвами землетрясений. Судорожно пыталась спрятаться, не сумев — впала в шок. Растерянная, беспомощная, неспособная действенно сопротивляться, безропотно подчинилась насилию природной стихии… Мир вокруг меня с неистовой стремительностью менялся — уютные защитные оболочки рвались, раня плоть, надёжное до того убежище обратилось в орудие моего изгнания. Бесконечно повторявшиеся толчки раз за разом швыряли тело, разрушая границы рая, который я оказалась не в силах защитить… Из-за тряски и ударов совсем утратила чувствительность — одеревенелый и безжалостный таран. О, как презирала я себя в те минуты!.. Тягучее, стискивающее голову всасывание в воронку… Винтовое движение вперед и внезапный нырок в пустоту… Я расплющилась под собственным бременем и мгновенно озябла. Апатия перешла в страх, который почти сразу разросся до состояния ужаса: невыносимое внешнее давление сменилось внутренним — меня раздувало покидающим атмосферу воздушным шариком… Никак не удавалось просчитать законы нового обиталища. Мысли и чувства распались на хаотические обрывки, не имевшие ко мне отношения, потерялись в информационном мареве… Марево полнило пропасть, воистину бездонную. Боже! Необъятность простора, куда я против воли вывалилась, грозила самым страшным из возможных зол — потерей памяти о себе и связи с собой. Лишь чудом удалось мне не лишиться способности жить в будущем осознанно. Незнакомые ощущения нарастали лавиной. Обжигавшие кожу тёплые и холодные вихри сменяли друг друга так быстро, что множество мелких ураганов вскоре слились для меня в одно тревожное прикосновение. Никак не получалось справиться с дрожью — это было нелепо и унизительно… — Девочка!.. — громыхнул незнакомый голос. — А ну кричи!.. Кричи, милая!.. Плечи знобило намного сильнее, чем повисшие узловатыми плетьми ноги, — неравномерность телесных впечатлений отчего-то особенно меня потрясла. Чтобы утвердиться в контроле над собой, следовало успокоиться, а для этого — проанализировать, что происходит. Я напряглась в последнем усилии понимания… увы!.. сила разума оставила меня окончательно…
За три месяца до моего пятилетия неурочно явился редкий гость. Жил он очень далеко от нас, в Амурской области, и приезжал раз в году — в отпуск. Случалось это обычно в феврале, накануне дня моего рождения. Несколько недель после его прибытия я, одна или с мамой, кочевала между нашей академичной опрятной трёшкой в Троицке и непрезентабельной грязной коммуналкой в центре Москвы, где обитала его родня. В другое время с отцовскими родственниками мы не общались. В том ноябре отцу подвернулась командировка, и он позвонил к нам в дверь, никого не предупредив. Ввалился в прихожую неуклюжим вьючным топтыгиным с чемоданом, портфелем и двумя огромными кошёлками, полными продуктов. Квартира сразу уменьшилась до размеров сказочной пряничной избушки — папа заполнил собою все, сделавшись центром общего внимания. Даже моя собака Долли следовала за ним по пятам, перестав меня замечать. — С поезда прямиком в министерство путей сообщения, теперь к вам. Скупил почти весь пищеблок! У меня там знакомый мужик работает… — оповестил папа с порога. Сняв пальто и ботинки, прошёл на кухню, поставил кладь на стол и властно распорядился: — Апельсины и мандарины ешьте сейчас, вино, шоколад, копчения оставьте к Новому году!.. Завтра целый день в министерстве транспортного строительства, послезавтра — в министерстве автомобильной промышленности. Потом ЗИЛ и ещё пара контор… Люсь, сервелат не жалей! Я в столице всю следующую неделю пробуду, в родной пищеблок наведаюсь, — и вам, и матери с братом, и друзьям с Амура добуду по палке… Мне ещё черной икры обещали и компота из этих… буржуинских экзотов… ананасов… Я росла странным, нелюдимым ребенком, любое неожиданное событие надолго выводило меня из равновесия. Смутившись чем-либо, пряталась под бабушкиной кроватью, — в конце концов туда положили старое ватное одеяло, призванное уберечь меня от простуд. Могла днями не покидать тайной норы; если меня всё-таки принуждали выйти из неё до самовольно назначенного срока, организм на следующее утро отвечал очередным подскоком температуры. Из-за болезненной моей ранимости и физической слабости к каждому приезду отца мама меня тщательно готовила: мы ходили на междугороднюю телефонную станцию и перекрикивались с ним через жужжащую чёрную трубку. Из шкафа загодя доставался и вешался на спинку моей кровати огромный полосатый халат — через пару ночей я привыкала к аромату папиных сигарет, смешанному с запахом моторного масла и терпкого воздуха чужбины. В том ноябре всё случилось спонтанно, не по обычному щадящему сценарию. Мы с бабушкой отреагировали на приезд отца нервно. Сухо поздоровавшись с гостем, застигнутая врасплох бабушка бесстрастно глядела, как мама разбирает его сумки. Сама она не желала прикасаться к подаркам. Топтыгин сделал вид, будто не заметил бабушкиной негостеприимности, но быстро ушёл из кухни. Отправился в нашу с мамой комнату, постелил газету на двуспальную тахту, занимавшую её почти целиком, на газету водрузил чемодан и открыл. Внутри оказались фрагменты каких-то механизмов — папа собирался добывать запчасти для сломанной техники. Один из фрагментов папа переложил в портфель, предварительно достав из него майку, трусы и зелёную водолазку. Других личных вещей у него с собой не оказалось. Я наблюдала за ним, спрятавшись за дверным косяком, терзаемая одновременно любопытством и страхом. Мама опустошила кошёлки и присоединилась к топтыгину. Бабушка продолжала греметь посудой на кухне. Всем было не до меня. Родители стояли в обнимку, о чем-то тихо переговариваясь. Стало интересно, что между ними происходит, и я на цыпочках подошла поближе. Отец меня заметил, улыбнулся, резко наклонился и поднял с пола. Этим он меня окончательно напугал: я закричала и забилась испуганной птицей. Прибежавшая на шум бабушка вырвала меня из папиных рук и унесла в свою комнату. Я спряталась в нору под кроватью. Вначале мама с бабушкой громко спорили. Потом хлопнула входная дверь: бабушка удалилась остывать к соседке. После её ухода около норы появилась мама и принялась уговаривать меня выйти. Я не стала ей отвечать. — Ну как ты можешь не помнить папу? — раз за разом повторяла мама. — Кто на прошлый день рождения тебе самокат подарил? А до того трехколесный велосипед? А ещё раньше любимую лошадку на колесиках? Ты с тумбочки ему стихи декламировала… «Тятя, тятя, наши сети», неужели забыла?.. Мама кривила душой, изображая, что удивлена моим поведением, и этим только подливала масла в огонь — возбуждение и упрямство мои нарастали. Предательница! Как могла она делать вид, будто не понимает?! Иногда мне не удавалось вспомнить вкус вчерашней еды или запах зелени на дачном огороде. Иногда я путала лица мамы и бабушки… Папа вообще был мифическим существом — его я ассоциировала больше с фотографией, чем с живым человеком… Мою чувственную память невозможно разбудить рывком… Эх, мама! Добиваешься своего за мой счет в надежде на безропотное подчинение!.. В столовой довольно повизгивала Долли. Отец сумел влюбить её в себя, и собака променяла меня на него!.. Как я их всех в тот момент ненавидела! Мама удалилась, появилась четверолапая изменница. Я затащила её под кровать и начала тискать. Долли терпела. Видимо, понимала, что я ревную… В бабушкину комнату вошёл отец. Из-под дивана были видны огромные ступни в чёрных носках, похожие на вражеские корветы. Сейчас прозвучит сигнал к атаке, и со мною будет покончено… Я ещё сильнее вцепилась в охранительную собачью шерсть… Отец, вопреки моим ожиданиям, обошёл кровать стороной, опустился в кресло у дедушкиного письменного стола, подпиравшего противоположную стену, и, казалось, заснул. Сначала по телу у меня бегали мурашки, и я беззвучно плакала. Потом резко успокоилась… Время двигалось очень-очень медленно… Похоже, я задремала, потому что не заметила, как исчезла Долли… Топтыгин встал с кресла, тяжело опустился на пол, лег, подполз по-пластунски к кровати и засунул огромную лохматую голову в проем. Тело мое сжалось в ожидании нового насилия. — Кто в тереме живет? — спросил враг потешным высоким голосом. — Мышка-норушка или лягушка-квакушка? Пустишь к себе волчка с серым бочком? Как ни была я напряжена, слова отца меня позабавили. Он так мало обо мне знал! В три года я вовсю читала, в четыре открыла на нижней полке одного из книжных шкафов, рассредоточенных по квартире, четырехтомный толковый словарь и изучила его от корки до корки. Тон, которым папа ко мне обращался, был самым неподходящим: им можно было сюсюкать с младенцем, а не взывать к разуму общепризнанной интеллектуалки. Игривая, нелепая, с легким оттенком иронии, папина реплика одновременно восхитила и разозлила меня. Захотелось произвести впечатление. — Господин Чичиков, — проблеяла я по-старушечьи, — наши мертвые души сегодня не продаются — они нам самим нужны. Езжайте к соседям! — Вот это да!.. — от изумления отец забыл, что голова его зажата клещами кроватного подбрюшья и резко ею мотнул. Удар получился мощным, он ойкнул. В комнату влетела мама. — Дик, что случилось?! Тебе плохо?! — Остынь, Люсь! Что ты из-за любого пустяка квохчешь курицей! У папы на лбу расплылся потёк крови. Он потрогал его пальцами, взглянул на руку, поднялся с пола и ненадолго исчез из моего поля зрения — мама обрабатывала рану перекисью. Потом перед моими глазами опять замаячила лохматая голова. — Будьте добры, разлюбезная госпожа помещица, угостите покорного слугу вишнёвым вареньем, — церемонно обратился ко мне топтыгин. — Только зря вы зовете меня Чичиковым — покупать и продавать не обучен. Специализация — способы передвижения… Разрешите представиться: Сивка-Бурка! На мне можно кататься для удовольствия или спасаясь от лиходеев… Жду вас за обеденным столом. Голова исчезла, и опять появились чёрные ступни. Вражеские корветы покинули мои берега, оставив хозяйку в легком разочаровании. Не могу сказать, что за время совместного времяпрепровождения я успела по-настоящему вспомнить отца, но он мне понравился. Топтыгин излучал жизненную силу и уверенность в себе. От этого радостно щемило сердце. — Умница, Инна! — похвалил отец, когда, покинув убежище, я уселась за стол: — Больше ты не будешь бояться, договорились?.. Раньше именем Инна звали мужчин. Мы с мамой ждали, честно говоря, парня, и когда появилась ты, решили, что все равно воспитаем тебя мальчиком… Так что я на тебя рассчитываю, сынок! Трусят и прячутся от опасности только паршивые девчонки! — Дик, ты чего?! — ахнула мама. — Откуда ты взял эту дикую историю? И почему девчонки паршивые? И разве можно называть дочь сыном? — А почему нельзя? — удивился топтыгин. Стукнула входная дверь. Домой вернулась бабушка.
Мое сидение в норе было знаком беды. Конечно, находясь в ней, я ни о чем подобном не подозревала и поняла смысл своего поведения, только её покинув. Внешне ничего плохого не происходило: меня окружали любящие люди, заботливые и по возможности ни в чем не ограничивавшие меня. Но, наверное, я была слишком горда и самолюбива: разочаровавшись в первые мгновения жизни в собственной способности противостоять внешней воле, рыбой ушла в воды абстрактного созерцания. Не продолжила обязательного дальнейшего проникновения в материю и овладения материальным, задержалась между телесной и бестелесной формами существования. Яркие краски пережитого при рождении, затмевая последующие события, делали их в моем восприятии смутными серыми тенями. Стоило оставить ум без работы, и заезженная пластинка воспроизводила панику самых ранних воспоминаний. Я часто болела, питалась по принуждению и плохо развивалась физически, хотя генетика предполагала обратное. Оставленный за спиной путь — обычно люди величают его прошлым — не удлинялся: время разбегалось в стремлении двинуться вперёд, делало небольшой виток вокруг начальной точки и опять возвращалось к пройденному. Каждое утро часть меня вырывалась из кокона небытия, надеясь, что сегодня я обязательно стану на день старше, но… Часы проходили в порхании от занятия к занятию, от человека к человеку, а вечером бабочка навсегда засыпала, чтобы назавтра следующая просуществовала отмеренный ей день… Больше всего на свете я страшилась смириться с этим поверхностным способом присутствия в мире. Но почему, почему веры в свет и добро недостаточно, чтобы тобою не завладела тьма?! В полтора года я напрактиковалась считать и, сидя в коляске у бабушкиных колен, громко сообщала очереди в магазине, какую сдачу даст продавщица. Это вызывало бурю восторга, и нас обычно не обманывали. В округе я прослыла вундеркиндом. И хотя моя равнодушная отстраненность пугала близких, они уверились, что ко мне нельзя подходить с обычной меркой. Обратиться за помощью к врачам, к моему счастью, им в голову не пришло. В реальности неприятности со мной не были следствием каких-то особых способностей — дело, скорее, было в элементарной психической травме. До дня неурочного папиного приезда душа моя обиженно спала. Она не верила в умение духа защищать, страшилась нового невыносимого страдания и отказывалась сочувствовать и соучаствовать, хотя только любовь могла придать смысл моей жизни. Как ни прискорбно, в ребячестве единственным содержанием моего внутреннего бытия была борьба между активным, открытым миру мышлением и скованной, зацикленной сама на себе эмоциональностью, не находившими взаимопонимания. Я пассивно наблюдала, не склоняясь ни в одну сторону. В том ноябре внезапный приезд топтыгина не дал мне времени создать обычную дистанцию, выстроить оборону против его энергичного воздействия. И произошло чудо: отец коснулся моего страждущего нутра, разбередил его, и оно поддалось… Невыносимо захотелось довериться… рассмотреть жизнь бесшабашно-весёлыми глазами папы… Это был нечаянный, но выход.
За десертом отец позвал нас с мамой жить с ним в Амурской области. — Я теперь невеликий, но начальник. В подчинении триста с лишним работяг! В районном центре для наших семей выделили двенадцать служебных квартир. Секретарь обкома расщедрился. Все теперь будет по-другому… Решайся, Люсь! Мама молчала. Бабушка глядела на топтыгина с негодованием. Я только что распробовала вкус быстрых перемен, и папино предложение показалось мне очень заманчивым. Радостно потребовала: — Поедем с папой, мамочка? Хочу! И тут тишина взорвалась. В первый и последний раз на моей памяти бабушка не просто сердилась, она захлебнулась криком: — Люся в твоем аду уже побывала и чуть не сгинула! Вернулась из вашей тмутаракани с младенцем, умирающим от воспаления легких… — Вы хотите, чтобы я ушёл, Наина Аркадьевна? — папа уронил на тарелку надкусанную шарлотку. — Нет уж, зятек! На этот раз ты меня выслушаешь! Родители растерянно переглянулись. Я превратилась в само внимание — когда ещё доведется поучаствовать в настоящем семейном скандале? В обычное время из бабушки слова не вытянешь, — защищая мою иллюзорную безмятежность, они с мамой придумали заговор благопристойного молчания. Выяснилось, что мама потеряла из-за папы элитный вуз и завидную карьеру. А дедушка умер за полгода до моего рождения, не пережив похищения дочери, — бабушка выразилась именно так: «похищения». У него на даче случился инфаркт, когда он выгружал из машины доски для починки сарая… — Разве это по-человечески? — гневно вопрошала обвинительница. Ещё бедной бабушке пришлось оставить работу, чтобы выхаживать меня, умирающую… Теперь во мне вся ценность её существования, а бессовестный топтыгин хочет лишить её жизнь смысла. Пусть сначала сколотит гроб и отвезет её на кладбище — это будет самый гуманный поступок в его жизни! Лицо и шея отца на глазах приобретали зловещий багровый оттенок, но бабушка словно не замечала нарастающей угрозы. Её следовало немедленно спасать и, как не раз уже происходило, спасать мне. — Что такое тмутаракань? — спросила я по возможности наивнее. — Папа приезжает из Амурской области, а не из тмутаракани — ты ошиблась, ба! На бабушку мои невинные вопросы всегда производили впечатление. И сейчас она остановилась на полуслове, посмотрела на меня так, будто я её безжалостно ударила. Потом лицо её исказилось судорогой, и она уковыляла в свою комнату. Жаль, что она слишком грузная, — не поместится в мою нору. Там бы я её потискала, и она успокоилась бы… Бедняжка! Я вышла из-за стола, церемонно раскланялась с родителями и отправилась вслед за бабушкой — утешать её и поддерживать.
Спать я легла в столовой, на прабабушкином сундуке. Это был старинный рундук из серовато-рыжего дерева, украшенный разноцветным геометрическим орнаментом. И такой огромный, что, кроме нас с Долли, на нём умещались тома энциклопедии, которые я любила просматривать. Он был святилищем моих размышлений, где я делала самые замечательные открытия. Мне нечасто позволяли ночевать на сундуке, но помог папин приезд. Сначала мы с Долли немного посекретничали: обсудили, что родилась я не в больнице, как это случается с обыкновенными счастливыми детьми, а в теплушке с приземистой железной печкой. Вагончик был снят с путей и превращен в жильё в морозном поселке Февральске… — Февраль в квадрате — и месяц моего рождения, и место… Представляешь, какое совпадение, Долли? — шептала я, обнимая мохнатую наперсницу. — Я была ещё меньше тебя… Кожу обжигали тёплые и холодные вихри, было очень страшно… Наверное, вихри шли от печки… согласно законам физики, как говорит баба… никакого коварного нападения… А я чуть не умерла от ужаса… Потом Долли легла у меня в ногах, я погрузилась в себя и заезженная пластинка моего явления на свет вновь завертелась. Но не остановилась, как обычно, на горькой ноте беспомощности, а двинулась дальше. — … Кричи! Кричи! — требовала от меня великанша с жесткими ладонями. Одна её рука поддерживала спереди, другая шлёпала сзади. Тело сотрясла резкая боль. В нос, горло и грудь ворвался горячий воздух морозного Февральска. — Ну, ну… задышала, слава тебе, Господи… Глянь, Люсь, она у тебя пантера!.. — Ох, Танечка!.. Худая да длинная… — это был хоть и слабый, но мамин голос. Меня трясли, обливали водой, заворачивали в пелёнку… Я рыдала. Не из протеста или сожаления, а потому что этого требовал инстинкт. — Паучонок… — я замерла у маминой груди, завороженная знакомой и в то же время необычной интонацией. — На голове волосики… тёмные… — лба коснулись нежные пальцы. — Как бы Дик не приревновал — ни у него, ни у меня таких в роду нет… — и удивлённо, со вздохом: — Похожа на мою школьную подругу… Вспомнив сцену своего рождения целиком, я не стала сильнее — всё так же была неспособна постоять за себя. Но ужас внутри измельчал: немощь переставала пугать. В чужом необъятном мире я больше не чувствовала себя беззащитной — меня ждали, за меня боролись… Забытое благоухание маминого молока смешалось с запахом Доллиной шерсти… Уснула я счастливой.
2. БАМ и пуговицы
Ой, мамочка!.. Задача, которую я себе поставила, воистину была невыполнима. Вообразить и прочувствовать то, о чём не имею представления! Но если не вообразить и не прочувствовать, то и представления никогда не получишь. Не отправлюсь же я измерять Байкало-Амурскую магистраль метровой рулеткой, хранящейся в ящике дедушкиного письменного стола?! Отец уже шесть лет сооружает БАМ — на год дольше, чем живу я. Мы с мамой и бабушкой львиную часть этого времени обитаем в Троицке, в квартире, построенной в мамином младенчестве. Её семья переехала сюда издалека, потому что здесь возводился новый научный центр и кто-то должен был в нем работать. Это что, родовая судьба? Каждое следующее поколение бросает насиженное гнездо и отправляется на штурм какой-нибудь очередной неизвестности. Бр-р-р! Папа мне интересен и необходим, но и мама с бабушкой тоже. Женщины мои помнят, как трудно начинать с нуля, и не рвутся повторять пройденное. Поэтому мы здесь, а папа там. Мне остаётся ждать, когда кончится строительство БАМа и топтыгин вернется… Но он такой… такой непоседа… Дальше Москвы я никуда не ездила. Если не считать Февральска, конечно. Дороги оттуда не помню — слишком маленькой была: самое важное проспала… Выклянчила я у бабы карту Советского Союза, чтобы всё-таки вообразить и прочувствовать протяжённости, но голова от карты съехала ещё капитальнее. Москва на ней была величиной в жирную точку, Троицк отсутствовал вовсе, а великая страна СССР в масштабе 1 сантиметр — 40 километров едва уместилась на прабабушкином сундуке… Как такую громадину можно представить? Вот чего, оказывается, испугалась я при рождении. В моём бестелесном существовании не было разъединённых пространств, как не было невыносимого внутреннего и внешнего давления, расстояний, разлук и мутного недопонимания… Бестелесное существование мне давалось легко. Нежилась, резвилась душа в едином лучистом потоке энергии… Ощущала себя особенной и одновременно в гармонии со вселенной. Нигде не начиналась и нигде не заканчивалась. Просто была. Жила в переплетении с похожими и непохожими сущностями — мелодия среди мелодий в баховской полифонии… Наверное, это был рай, но я не понимала. Мне хотелось большего: научиться создавать миры, а это совсем другой уровень автономности и самоконтроля… Чтобы дойти до подобных мыслей, пришлось ухнуть в бездну материального. Засунуть себя с головой в испытательный тренажёр, выискивающий слабые места. Их у меня оказалось навалом. Ох!
Седьмого февраля топтыгин вырисовался на пороге, как обычно, навьюченный по самую макушку. На этот раз, кроме чемодана с портфелем, при нём находился громадный странный предмет, обмотанный многослойной газетной бумагой. — Отпуск, конечно, здорово! — провозгласил он, опустив поклажу на пол. — Но приехать в Москву и не прошерстить в министерствах — недопустимая потеря шанса. Так что, девочки, любовь любовью, а дело делом!.. Будут вам и приятности из родного пищеблока!.. Маму, похоже, его заявление не обрадовало. Она криво улыбнулась и холодно дала поцеловать себя. А я ждала отца, считая дни, и повисла у него на шее с полной самоотдачей. — Ого, Инна! — снимая пальто и ботинки, топтыгин то и дело поглядывал на меня. — А ты подросла… и глазёнки задорно блестят… Не трусишь больше? Давай-ка проверим боевой дух! Оставив груз в прихожей, он устремился в столовую. Отодвинул к окну стол и стулья — центр комнаты превратился в подобие танцкласса. Взял меня за запястья, спросил: «Ну как, готова?» и начал кружить. — Не садись на пенек, не ешь пирожок!.. — распевал он во все горло: — Инну папа несёт за поля, за луга в тридесятое царство!.. В ушах свистел ветер; потолок, пол, стены слились в единый лучистый поток энергии. Свобода… Я снова в раю… Душе стало легко и весело, и я громко засмеялась… Необычные звуки встревожили бабушку, она выскочила из кухни с полотенцем в руках и стояла теперь на пороге, открыв рот. У мамы исправилось настроение, она притоптывала и подпевала нам. Прыгая вокруг неё, заливисто лаяла Долли. Наконец все утомились. Отец поставил меня на ноги. — Уф!.. — отдувался он. — Теперь ты у меня настоящий герой, сынок!.. И под кроватью больше не прячешься? Я схватила его за руку и потащила показывать переустройство нашего хозяйства.
Вскоре после ноябрьских событий нору упразднили. Ватное одеяло убрали. По настоянию бабушки кровать переставили ближе к окну, чтобы на неё задувал свежий ветерок из форточки. В таинственном некогда подбрюшье организовали заурядный склад коробок с новогодними игрушками и прочей дребеденью. Но кончина норы была только вершиной айсберга перемен. Характер мой точно переломился. Паника, ещё недавно бултыхавшаяся внутри и при любом удобном случае выплескивавшаяся наружу, испарилась. Думаю, рассудок сумел всё-таки подобрать ключи к разбушевавшимся чувствам, и конфликтующие дух и душа объединились. Клубок жгучих тайн моего рождения размотался виток за витком… Липучие нити страхов держались к тому времени лишь на пустой скорлупе необоснованной амбиции. Идя в новый мир, я рассчитывала, что легко справлюсь с трудностями, а в действительности броду не ведала… С отвращением раздавила пустую скорлупу и очистилась… Теперь я меньше читала и больше играла с предметами. Кроме карты Советского Союза, особенно увлекалась коллекцией пуговиц из прабабушкиного сундука. Некоторым из них уже исполнилось по сто лет, и по ним можно было измерять глубину времени. По другим, впрочем, тоже: чем позже изготовлена пуговица, тем меньшая глубина за ней ощущалась. Я сжимала пуговицу в ладони и слушала её рассказ. Тяжелые оловянные мастодонты хвалили мундир, украшенный необыкновенными шнурами, деревянные квадраты с волнистой бороздой — пальто-разлетайку. Костяной молочно-кремовый овал сокрушался, что не дослужился до броши… Особо болтливыми были сравнительно молодые: обшитые белым атласом франтихи в подробностях описали бабушкину свадьбу, мелкие розово-лиловые — мамин выпускной бал… Я решила, что не помешает оставить в коллекции и свой след, — у меня ведь тоже может родиться дочка: отпорола от любимого платья и нанизала на толстую чёрную нитку шесть восхитительных нежно-голубых цилиндриков.
Коллекция пуговиц топтыгина не воспламенила. — Женские штучки! — отмахнулся он. Да и поговорить о важном для меня — глубине времени и протяжённости земли — с ним не удалось. Как и мама с бабушкой, отец был сосредоточен на собственных задумках. Водрузил посреди столовой громадный странный предмет, привезенный с собой, и мы слой за слоем начали его распаковывать. Действовал папа не спеша, то и дело отвлекаясь на беседу. Объяснял, что без синяков никто не вырастает и что боятся их только неженки. И чтобы я не обезьянничала с мамы — ведь я больше его кровь, а не её — и училась бороться за свои мечты. У топтыгина в моём возрасте живого места на теле не было, зато вырос он орлом, а не мокрой курицей, как некоторые его знакомые. — Смотри, дочь, и гордись родителем! Отец вытащил из портфеля медаль с двумя героическими профилями на фоне железнодорожного состава и далеких гор: — Отец у тебя мужик, каких мало! Участник величайшей стройки века! Я вертела в руках плоскую кругляшку с надписью «За строительство Байкало-Амурской магистрали» и не чувствовала за ней глубины времени. Медаль была слишком маловесной, нарочитой, словно лишённой прошлого или будущего. — Пап, ты медаль, наверное, не носишь совсем? — Во даёшь! Как догадалась? Валялась в каком-то ящике на работе, я и подумал, что надо хотя бы перед тобой похвастаться. А носить её на пенсии стану. Ещё заработаю парочку таких или посолиднее и давай перед старушками на крылечке звякать. Мама меня от них оттаскивать, оттаскивать… Ты ещё за мной побегаешь, донна Люсинда! — Размечтался! К моему облегчению, медаль вернулась в портфель. Слава Богу, удалось не сказать папе лишнего… Из газетной пены Афродитой выплыл красный двухколёсный велосипед с толстыми шинами и двумя маленькими колесиками по бокам (топтыгин собственноручно привинтил каждый, предварительно проверив надежность креплений каркаса). Наше с мамой восхищение роскошным подарком было принято им с видимым удовольствием: — Хорош вездеход? Все детство мечтал о похожем, да откуда? Нас с братом растили на картошке и пшенке. Не до баловства было! Я взобралась на высокое для меня седло, и папа принялся катать велосипед по квартире.
Топтыгин исчезал по делам, или мы ездили к его родне. Несколько вечеров подряд приходили гости на мой праздник. Мама часто пропадала в школе, где работала не только учительницей английского, но и классным руководителем. Лишь накануне отцовского отъезда мы смогли провести день семьёй — до того всё не складывалось. Утро началось общим весельем: мы валялись втроём в постели, распевая песни и травя байки. Долли тоже пыталась взобраться на кровать, но мама её сгоняла. После завтрака решили погулять. Мне не терпелось опробовать двухколёсного красавца на асфальте. Правда, управляться с велосипедом я так и не научилась — отставала в росте от сверстников и была для него мелковата: руки с трудом удерживали руль, ноги еле-еле доставали до педалей, и чтобы их крутить, я сползала на раму. От моей просьбы взять железную обнову на улицу папа пришёл в восторг. Бабушка возмутилась, потому что на велосипеде нормальные люди ездят летом, а не зимой, когда наледь. Мама сохраняла нейтралитет. После бурных переговоров победила моя настойчивость. Папа вынес велик во двор, я, мама и собака последовали за ним, а бабушка с таблеткой нитроглицерина под языком осталась сердиться на нас дома. Асфальт во дворе скользил, долго сидеть на раме было больно, руль не слушался, педали не желали крутиться. Но топтыгин шагал рядом, помогал и заботился. Соседские мальчишки с нескрываемой завистью глядели, как я объезжаю непокорного скакуна… Мы с папой гордились друг другом. Разве это не настоящее счастье?.. Долли то и дело убегала вперед, оборачиваясь и ободряюще тявкая. Мама черепахой тащилась сзади. — Давай подождем обоз: без кухни солдат — не воин, — пошутил топтыгин. Мы остановились. Но мама, догнав нас, не обратила на мои достижения внимания, как я того ожидала, а сосредоточилась на отце: — Что ты за человек, Дик! Никак не поймёшь, что Ная переживает! Неужели нельзя обращаться с нею немного бережнее? Видимо, всё это время она думала о бабушке: — Бросить её во второй раз, да ещё когда она овдовела и у неё никого, кроме нас, нет… не могу… — Не делай из мухи слона, Люсь! Я само дружелюбие! Ни разу не огрызнулся, хотя очень хотелось… — отец обнял маму за талию. — Твою матушку никто не обидит. Возьмем Наину Аркадьевну с собой! Квартира-то городская! Большая, двухкомнатная, с кухней, туалетом и ванной… Сладкая ягодка! Лесная земляничина!.. — и он поцеловал её в губы. — Соседи увидят! — зардевшаяся мама тем не менее прижималась к нему. — Пусть любуются, какая моя Люся сладкая! — Неудобно! Они немного помиловались, и мы двинулись дальше. Но разговор продолжался. — Мама на переезд не пойдёт… У меня последний курс института… И с Инной сложно, я уже договорилась о детском садике… Дик, почему ты обязательно хочешь сдёрнуть нас? Давай ты к нам! Отец остановился и внимательно посмотрел на неё: — Ты это всерьёз? — Конечно. — И не помнишь, как я здесь мыкался, пока не решился уехать? — Дик, это было давно! Теперь ты совершенно другой человек — у тебя есть профессия, имя, связи… И у тебя здесь дом… — Нет у меня в этих грёбаных краях дома, Люсь! — отец навис над матерью разъярённым зверем. — Там я дышу, радуюсь жизни, а здесь… здесь задыхаюсь… На Амуре я человек — всем нужен, всеми уважаем… Люсь, ты же раньше умная была, всё понимала… И из тебя Москва хамелеона сделала? — Дик, мне не семнадцать лет, и давить на меня бесполезно! Я тебе доверяла, я тебя слушалась… — губы у мамы дрожали. — Жизнь показала, что Амур не для меня… Мы сделаны из разного теста… — Нашла себе хахаля? Меня больше не любишь? — Люблю. — Тогда в чём дело? — Для нас имеет значение качество жизни! — Так я вас в городскую квартиру зову! — Ты прекрасно знаешь, что нас там ждёт. — А что меня ждёт в Москве? Прозябание на третьих ролях? Копейки в какой-нибудь захудалой конторе? Существование приживалом при твоей или моей матушке? Они друг друга стоят! Эх вы, женщины… Накопил я сумму на ваш переезд — чтобы можно было и мебель вывезти и остальное, что дорого … — папа достал из внутреннего кармана пиджака солидную пачку денег и сунул её маме в руки. — Используй, как сочтёшь нужным… Не на переезд, так на отпуск. Свози Инну к морю! Взялся за мой велосипед и двинулся прочь, но, пройдя несколько шагов, обернулся и добавил, как отрезал: — Люсь, я мужик. Не могу всю жизнь по чужим углам. Мне семья нужна там, где я есть. Жду тебя до конца лета. Потом извини, подруга! — топтыгин с новой силой налёг на велосипед, мы покатились с горки быстрее ветра.
И снова я бьюсь над своими загадками в полном одиночестве. Отец на днях отбыл к себе на Амур. Мама пропадает на работе. Бабушка сердится, потому что не понимает… — А что, если с помощью пуговиц с их глубиной времени попытаться прочувствовать протяжённость большого пространства? Долли моя идея понравилась. Пуговицу за пуговицей прокладывала я по карте Советского Союза извилистую трассу Байкало-Амурской магистрали… Кончалась одна связка, я потрошила следующую — это означало, что время сделало ещё один поворот… — Вот такой шири-ины-ы!.. Вот такой ужи-ины-ы!.. Долли, не мешай!.. Мы с тобой меряем необъятной длины каравай… Можешь представить себе тысячи и тысячи километров? То-то же!.. Мысль! А может, пространство — это единый куст времени, разросшийся многими стволами? Громадным оно стало, чтобы поместилось видимо-невидимо событий в один миг?.. Долли сочувственно прыгала вокруг сундука и виляла хвостом в знак согласия. — Сколько нам с тобой надо ехать, чтобы навестить папу и узнать, как поживает наш прощальный подарок — костяная пуговица?.. Где она сейчас — около сердца топтыгина, как я просила?.. Эх, скольких бед не случилось бы, если бы папа мне верил, а не дразнился… Думаешь, пуговица уговорит его не отпочковывать свое время от нашего?.. Ау, папа!..
3. Границы рая
Изогнув стан, мама вытянулась в длину и обвилась вокруг моего пылающего тела. Прикосновения отдавались болью — громадный бледный питон с ярко-жёлтыми щелочками глаз всё сильнее сжимал кольца. Светящиеся зрачки гипнотизировали, заставляя признать, что и я принадлежу к пресмыкающимся — думаю их мыслями, чувствую их чувствами… Край был близок: вот-вот задохнусь в цепких объятиях удава, подчиняющего жертву подобием любовной ласки. — Мама, прекрати! — молила я. — Жизнь в несвободе хуже смерти… Питон равнодушно вламывался в моё внутреннее пространство, игнорируя просьбы. Я рассвирепела, напряглась в отчаянном сопротивлении, спрессовала тело в боевое лезвие и вонзилась в змеиный обруч. Теперь не только мама, но и я потеряла вещественную форму: не мы — две стихии сплелись в смертельном поединке. В очередной раз вынырнув из густого лилового тумана ярости, я поняла, что противостоит мне совсем не мама. Её образом воспользовалась деспотичная земная сила, владеющая волей моих близких и охотящаяся за моей свободой. Это было счастливое открытие — сражаться за маму, а не против неё, было гораздо проще… Облегченно вздохнув, я впала в беспамятство.
Желтоглазый питон явился ко мне в июне, когда я впервые за последнее время загрипповала. Недуг протекал неестественно — не по привычному канительному сценарию. Ворвался высочайшей температурной свечкой, двое суток мотал меня по причудливым закоулкам бреда, а на пятый день в одночасье закончился исцелением. Насморк исчез, в горле больше не свербило, сил заметно прибавилось. На всякий случай в субботу меня подержали дома. В воскресенье вывели на улицу. Для домашних инцидент был исчерпан, но для меня произошла лишь смена декораций: то, что виделось родным странноватой вспышкой вирусной инфекции, я перенесла как душевный кризис, с физическим выздоровлением перетекший в стадию осознания. Накануне болезни мы с мамой беседовали об отце. Она сказала, что, как и я, не против поселиться с топтыгиным на Амуре, однако у подобной возможности есть множество препятствий. Ставить маме ультиматум папа права не имел. Это он — вечный шатун и перекати-поле, она же не свободна в своих поступках, потому что от её решений зависим мы с бабушкой. Мысль о маминой несвободе меня потрясла. Как можно пребывать рабыней даже любимых существ и не пытаться освободиться? — А работать в школе тебе нравится? — выискивала я лазейку, дабы не застрять в очередной норе. — Разве есть выбор? — удивилась мама. И, окончательно потеряв опору, логика моя ухнула в щель между воображаемым миром и действительностью.
Обжигаясь и плача от боли, я протиснулась в пасть желтоглазого удава и вытащила из его нутра почти переваренное дитя. Оно лежало у меня на ладони, обездвиженное и измазанное отвратительной слизью. Неужели поздно и его не спасти? Безумная усталость… Зажав ребенка в кулаке и не представляя, как поступлю потом, в очередной раз отключилась. Очнулась я от щекотки. У меня по запястью елозила очаровательная золотоволосая дюймовочка в любимом мамином свитере. — Что значит: не свободна в своих поступках, раз от тебя зависим мы с бабушкой? — продолжала я борьбу. — Может, ты просто не умеешь делать выбор? — Дети в таких вещах не разбираются, — пожала плечами спасенная кроха. — Они должны слушаться взрослых. Это ты у нас домашний ребенок, а я ещё в детском саду все премудрости выучила. «Только ангелочки в раю получают, чего хотят, маленькие бесенята обязаны ходить по струнке…» — забавно отчеканила она тоном суровой воспитательницы. Потом развеселилась, разбегалась по моим рукам, шее и голове, распевая песенку про двух весёлых гусей. — Гуси, гуси, га-га-га! — часть меня участвовала в игре и подпевала, а другая продолжала тревожиться. — Иннуля, тебе всего пять, и ты не можешь не верить мамочке! Люди всегда несвободны — по-другому не бывает… — поучая, проказница радостно хлопала в ладоши. — Рабыня — не более чем ярлык: у каждой из них в запасе собственный рай, где желания исполняются… — огляделась по сторонам, проверяя, не подслушивают ли нас, и прошептала: — В моём раю я принцесса! Чу! Не проболтайся! Об этом никто не знает…
Со дня бабушкиных откровений, разрушивших заговор благопристойного молчания, подробности семейной истории стали постоянным объектом моего интереса. Я задавала взрослым каверзные вопросы, подслушивала, подглядывала, докапывалась до мельчайших деталей. Установила, что родители познакомились на первом курсе московского вуза, куда одновременно поступили. Мама с золотой медалью окончила школу и была прекрасно подготовлена, папа только вернулся из армии и прошёл по льготному списку военнослужащих. — С учебой у Дмитрия не заладилось, после первого курса его отчислили. Питекантроп окрутил малолетку! — драматически восклицала бабушка. Топтыгин устроился на работу, но продержался на ней всего несколько месяцев: случился конфликт с начальником, они чуть не подрались и папу уволили. Тут и явилась ему идея отправиться строить такую необходимую стране Байкало-Амурскую магистраль. Наведавшись в военкомат и горком комсомола, оформил документы. — Расписался с мамой, загипнотизировав её, как Каа бандерлогов, — бабушка страшно округляла глаза и морщила лоб, чтобы я уяснила, как это было страшно. — Увёз в тмутаракань, не дав времени закрыть четвёртую сессию. Родители прожили семьей около года — до моего рождения и ещё пару месяцев после него. Они диаметрально расходились в оценке того периода: папа утверждал, что был очень счастлив и, если бы не моё слабое здоровье, никогда не отпустил бы маму обратно в Троицк. Мама в ответ пожимала плечами: любовь не заменяет элементарных бытовых условий. Существование в убогом вагончике настолько её измучило, что она лишилась самой способности чувствовать любовь… Дальнейшее красочно описала бабушка. Увидев на лестничной площадке блудную дочь — точь-в-точь лягушка, побывавшая под грузовиком, — она даже обрадовалась: можно надеяться, что Людмила поумнела. За битого двух небитых дают. Но к груди несчастливицы был прижат грязный стёганый конверт, исторгавший хрипы, свист и жалобные всхлипывания… Бабушка поняла, что урон, нанесенный её потомству, гораздо серьезнее, чем ей вначале показалось, и кинулась нас спасать… Благодаря её самоотверженным усилиям я нормально задышала, а мама захотела жить дальше — потихоньку начала выходить на улицу, перестала прятаться от знакомых. Восстановилась на заочном отделении брошенного вуза. Директор школы, которую она с блеском окончила, при встрече пригласил её преподавать. Пережив амурские страсти, мама не желала новых сложностей — школа виделась ей почти идиллическим вариантом…
Бабушкины страшилки я вспомнила, попав в мамин рай. Почему?.. Мы мило прогуливались по бесконечной анфиладе покоев с огромными зеркалами на стенах и нарядной лепниной на потолке. То и дело нас останавливали незнакомцы, жаждущие восхититься одним из достоинств моей спутницы. Мама продолжала менять облик: теперь она стала юной красавицей, черноволосой и босоногой, на несколько голов выше меня и одетой излишне легко — будто никогда не видела снега. — О, Эсмеральда, ваше высочество! — рухнул перед нею на колени очередной влюблённый вельможа. — Неужели и на этот раз вы не обратите на меня своего милостивого внимания?.. — Надоел! — принцесса брезгливо обошла коленопреклонённого и, повернувшись ко мне, спросила: — Ну как тебе райская жизнь? Правда, здорово? Комнаты изобиловали изысканной мебелью на гнутых ножках, инкрустированной и отделанной позолотой. — Принцессам нравится мишура? — удивилась я. — Она и простолюдинкам нравится! — Вещи неудобные… — Принцесса не может выбирать — она обязана жить в роскоши. — Эсмеральда — не принцесса, мам! Цыганка… — Мы в моём раю! — в гневе она топнула ногой. — Желаю быть Эсмеральдой!..
Эта вспышка маминого гнева словно вскрыла нарыв — я почувствовала, что добралась до цели. Предстоит важная, не до конца понятная работа. Одновременно пошла на спад болезнь — жар утихал, внутри посветлело. Грудь почти не болела, хотелось пить… Ни к кому не обращаясь, попросила воды. Губ коснулась кисловато-сладкая жидкость. Я узнала вкус бабушкиного морса и поблагодарила пространство. Сушь во рту исчезла. Кто меня напоил? Мама? Бабушка? Всё равно... если не одолею желтоглазого питона, владеющего их душами, то не сумею по-настоящему различить: на земле они — побеги от одного корня, обе на службе у деспотичной силы… Как мама не понимает! Если бы она разлюбила отца и потому не хотела ехать к нему, я переживала бы, как дочь, но не более… Смириться же, что и меня ждёт крепостная зависимость от близких без возможности самой выбирать будущее, загнать себя, будто скотину, в стойло предопределённости… На дыбы встало всё мое существо. Нет, никогда!.. Пусть лучше вырасту очень плохим, бессердечным человеком! Открыть глаза не было сил, я опять провалилась за подкладку реальности.
— Видишь, как важно иметь свой рай! Место, где ты восхитительна. Здесь я не постарею, не потерплю неудачу и не умру… Когда ты была вот тут, — Эсмеральда нежно погладила свой по-девичьи плоский животик, — рай удержал меня от самого дурного. При беременности так иногда бывает… неустойчивое настроение: плохие предчувствия, бессонница… Но я боролась — делала вид, будто ничего такого со мной не происходит. Представляла, что вокруг меня благодать. Однажды вспомнила, что живу вечно, и перестала принимать смерть всерьёз… Её слова всё сильнее беспокоили меня. Вроде бы правильно, но… Разве, игнорируя действительность, можно совершить выбор? Мама скорее бежала от решения, чем принимала его. Необходимо понять, почему она так катастрофически ошибается… Я искала аргументы, чтобы достучаться до её рассудка. Оглядываясь по сторонам, заметила, что нарядную мебель за нашими спинами заволокло мороком. Значит, анфиладу царственных комнат оживляет мамино внимание, а без него она мертва? Тогда чем мамин рай отличается от кукольного домика, к игре с которым баба так и не сумела меня приохотить?.. Взгляд зацепился за коленопреклонённого. Теперь его лицо больше напоминало мультяшное, рисованное. Влюблённо созерцал пустоту, где мамы давно не было… Я перестала сомневаться: раем правила ложь — истинная владычица этого места. — Мам, ты непоследовательно меняешься. Твою логику трудно уловить. Сколько тебе лет? — Четырнадцать. — Расскажи о себе, чтобы было понятнее. — Увы, я совсем неинтересна, в подметки не гожусь своей обожаемой подруге… Она-то красивая — черноволосая Эсмеральда… Люблю смотреть, как она прелестно поворачивает головку, глядя через плечо. Я, неуклюжая, вдохновляюсь её грациозностью… И ещё я обожаю Сашку: однажды он подержал мой портфель, пока я завязывала шнурок… Поделилась с Эсмеральдой, что он ко мне неровно дышит и мы когда-нибудь поженимся. Она так смеялась надо мной вместе с другими девочками… — мама секунду помолчала и заговорила гораздо тише: — В моем раю Эсмеральда и Сашка не женаты, не живут в соседнем с нами доме и у них нет двоих очаровательных здоровых малышей! И я ни капли никому не завидую… Впрочем, это уже всё равно, ведь я замужем за твоим папой… Было больно видеть её такой — растерянной, кроткой, по-детски наивной в своем очевидном обмане. — Мам, тебе двадцать пять. — Нет. — Надо взрослеть! Мне без тебя, взрослой, себя не вытянуть. Если родители слабые, дети не могут их уважать и вырастают ужасными злодеями. — Не хочу!.. — закричала она. — Никогда!.. — и, обезумев, зашлась в рыданиях. — Бою-юсь!.. Боюсь!..
На улице стояли ясные тёплые дни. Чтобы мой организм окончательно забыл про болезнь, бабушку, меня и Долли вывезли за город. В первые дни я почти не выходила со двора — вспоминала и систематизировала горячечные образы. Из тёмных глубин безотчетности то и дело всплывал какой-нибудь нелепый эпизод, точно неведомый зверь показывался в беге или прыжке и погружался обратно, оставляя в душе острый болевой след… Я садилась на качели — досочку с четырьмя дырочками по углам, висевшую на давно не плодоносившей яблоне, — раскачивалась и размышляла. Почему ощущение реальности происходившего и сейчас не оставляет меня?.. Ощущения врут? Если да, то чему вообще можно верить? На что опираться, если не на себя? Почему в бреду я сильная и убежденная, а в обычной жизни маленькая и слабая? Душа не помещается в теле? Хи-хи!.. Если допустить, что пережитое в бреду имеет отношение к реальности, то люди похожи на матрёшек со вложенными друг в друга разобщёнными «я»… Можно ли вообще понять, как соседствуют подобные доли целого?.. Ядро меня, проявившееся в душевном кризисе, знало секреты, о которых я и не подозревала… Сидя на качелях, я впервые задумалась, как судьба может отражаться на наших взглядах. И что мамин ответ «Разве есть выбор?» был предсказуем. Молодая женщина, о которой бабушка говорит, что у неё вся жизнь впереди, закована в кандалы долга, точно закоренелый преступник-каторжник. Она не строит будущего, плывет по течению в никуда… Мамин рай возник как защита от невыносимого страдания. Но спасая, он изолировал бедняжку от мира, сделал ещё более беспомощной и хрупкой. Незачем стало напрягаться, делая выбор и добиваясь исполнения желаний, — все потребности заместила иллюзия. Но… когда шестерёнка не цепляется за другие шестерёнки, механизм не работает… Мамино сознание избегает реальности… Вновь и вновь я возвращалась к затянувшемуся диалогу с Эсмеральдой.
Теперь мама бродила по руинам разрушенного рая. Анфилада комнат всё так же уходила в никуда, но это «никуда» было ограниченным и убогим. На стенах ни следа зеркал и позолоты — только осыпающаяся штукатурка да облупившаяся краска. — И это рай?.. Неужели?.. Что сталось с моим раем?.. — рассеянно и тоскливо повторяла Эсмеральда. Под её босыми ногами темнел смоляной рубероид, на котором в беспорядке валялись доски, куски фанеры, отполированные многими наездниками деревянные седла стульев… Мусор служил черноволосой красавице шаткими мосточками, она перепрыгивала через расщелины и, казалось, что-то искала. — Мама! — позвала я. — Держись поближе ко мне!.. И разрушенный рай — тоже неправда… Настоящая жизнь устроена по-другому… Не повернув в мою сторону головы, она упрекнула: «Что ты наделала?» и двинулась дальше. — Посмотри! — я показала ей на пролом в потолке, сквозь который проникало яркое солнце в обрамлении зелёной листвы. — Этот мир подлинный! Его сделал настоящий мастер! Надо учиться у него, а не у детсадовской воспитательницы… Эсмеральда обратила к пролому заплаканное лицо, и солнечный свет вдруг принял её в себя, преобразил и утешил: — Кажется, я начинаю тебя понимать, Инночка… На душе у меня было ужасно, а на солнышко засмотрелась — и хорошо… Рай и ад вперемешку… — Мама! — я глядела на неё, вернувшуюся из тёплого луча, где было столько любви, что хотелось навсегда в нём остаться. — Ты всё-таки выбрала! И ты со мной… Эсмеральды больше не существовало. На меня глядело родное улыбчивое лицо, осенённое мягкой волной каштановой чёлки.
Эта грёза словно довершила начатое дело. Кошмары покинули меня, как не бывали. Я с удовольствием погрузилась в дачный мир. Здесь всего было в избытке. Круговорот цветов, звуков, запахов пьянил и насыщал, заставляя позабыть о моих дурацких вопросах. Вскоре я перезнакомилась с соседями и теперь носилась по дворам, изучая, как копают грядки, выдёргивают сорняки, таскают воду из колодцев… Бабушка не могла меня дозваться. Наблюдала я и за толстощёким соседским младенцем, пускающим слюни. Как-то он схватил пчелу, подержал её между пальцами и отпустил. Он не знал, что пчела больно жалит, и совсем не боялся. Пчела его не тронула. В другой раз я загляделась на козу, которая загнала в угол огромного пса. Уставилась на него своими дикими безумными глазами и грозно трясла бородой. Пес тихонько скулил, моля о пощаде. «Значит, когда не боишься, становишься сильнее? — удовлетворённо подумала я. — Папа – молодец, что вытащил меня из норы. Он прав, бесстрашие защищает!»
По выходным приезжала мама. Нам нравилось сидеть на земле около ограды и слушать, как растут ягоды на кустах. Они наливались почти бесшумно, но если сосредоточиться… Между мною и мамой протягивался странный звенящий проводок нежности, по которому можно было разговаривать без слов. Наше общение за границей яви перестало быть спором, но продолжалось, и однажды я осознала, что сделанный мамой выбор рано или поздно проявит себя в действительности. Предвкушала я это с лукавой радостью, потому что надеялась на скорое путешествие к отцу. Мама уезжала в город и вновь возвращалась. Потом занятия в школе закончились, и мы не разлучались почти полтора месяца. Ходили купаться на речку, катались на велосипедах — к тому времени я освоила джигитовку на топтыгинском скакуне и носилась по просёлочным дорогам с приличной скоростью. Приближался срок папиного ультиматума, на море мы не поехали, и я всё больше убеждалась, что отцовские деньги будут использованы так, как им задумано. Тем утром мы искупались в речке и грелись на берегу, лёжа рядом. Долли охотилась на жуков в траве поодаль. — Доча, ты любишь папу, и я перед тобой виновата… — произнесла мама со вздохом. — Но мы к нему не поедем, а это значит — развод. Возможно, он от тебя отдалится именно тогда, когда ты к нему потянулась… — Почему?! — возмутилась я. — Хочешь, я уговорю бабушку? У меня получится! — Дело не в бабушке, дело во мне. Буду откровенна — ты такой необычный ребенок, иногда мне кажется, понимаешь меня лучше, чем я сама… Меня всю жизнь строили — родители, школа, институт, твой отец. Сейчас для меня самое главное понять, кто я и чего хочу. Папа меня подавляет. Он слишком большой и яркий. В его тени я становлюсь такой, какой он хочет меня видеть… Сначала я рассердилась на неё за трусость, но потом вспомнила растерянную Эсмеральду на развалинах рая. Каково начинать с нуля, когда всё, во что верила, оказалось подделкой? Эх, если бы топтыгин потерпел ещё пару лет!.. Чем я могла помочь своей без вины виноватой мамочке? Только напомнив, что я маленькая и нуждаюсь в родительской опеке. Схватила мокрое полотенце, свернула в ком и кинула маме на живот. От неожиданности она взвизгнула… За вечерним чаем я забралась на уютные колени, потёрлась щекой о пылающую щеку: — Мамуля, самая, самая любимая…
С середины августа школа уже работает, и последние дни лета мы проводили без мамы. Всё чаще лил дождь. Чтобы не скучать, я и Долли сидели на верхней ступеньке укрытого навесом крыльца, высовывали под дождь то руку, то ногу, то хвост и изучали узоры из капель. Устав, затеяли разговор: — К папе мы с тобой не поедем… Чудес не бывает, а очень жаль… — вводила я её в курс дела. — Придётся опять мерить БАМ не глазами, а пуговицами… Ни папа, ни мама нас не послушают, пойдут в разные стороны… Наверное, мы слишком мало знаем о жизни взрослых, но кое-какие успехи у нас есть: заметила, бабушка не ругает маму, как раньше?.. Просто взяла и перестала ругать… ни с того, ни с сего… Неужели ба почувствовала, что мама больше этого не потерпит?.. Долли глядела на меня во все глаза. Хвост её выстукивал по деревянному настилу дождливый танец. — Когда я рождалась, ненавидела себя, потому что ломала границы рая… А сейчас вдруг поняла: разрушить их надо было обязательно, иначе смерть… Попадая в новый мир, пугаешься — и из-за страха думаешь, что оказалась в аду. Представь: ты маленькая, а мир необъятный, в нём так легко потеряться… Тебе просто необходима нора, чтобы пространство уменьшилось хоть немного и ты могла слышать себя, а не только то, что снаружи. Но потом выясняется, что мир не так уж и велик, просто он достался тебе на вырост, как топтыгинский двухколёсник. Крутишь педали и носишься в свое удовольствие. И думаешь, что живёшь в раю… Это лето было по-настоящему райским… Но… знаешь, что я думаю? Человек не может не расти, а значит, мир со временем перестанет быть мне по размеру, и надо будет снова куда-нибудь вываливаться. Кроме тебя, поделиться не с кем, Долли, но мне тревожно: вдруг в будущем я, как мама, испугаюсь разрушить границы и стану рабыней лжи?.. Дождь почти закончился, мы с Долли выбежали из-под навеса, чтобы не пропустить радугу, если она вдруг появится в небе. Глядели в обложенное тучами небо и ждали. — Эх, Долли, оказалось, что очень трудно строить миры… Мечтать мечтаю, но вряд ли смогу научиться… Никак не разберу, из каких несущих идей они сделаны и почему живут сами по себе, не завися от воли создателя, как наши игрушки… Жаль, что собачий век короче человеческого, мы бы с тобой обязательно поэкспериментировали, а поодиночке легко совершить ужасную ошибку… Хотя чего я пугаюсь! В какую бы форму ты ни перешла после, будем на связи — ведь мы теперь навсегда подруги… — Ин, айда в магазин! — позвала бабушка. — Пока распогодилось, хлеба бы купить к ужину… Мы с Долли наперегонки понеслись открывать перед ба калитку.
Рассказ опубликован в № 16 журнала "РБЖ-Азимут". Вошел в состав сборника "Дверь, которой не было", подготовленного редколлегией "Азимута".
стр:
|
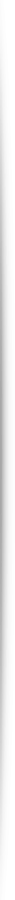
|